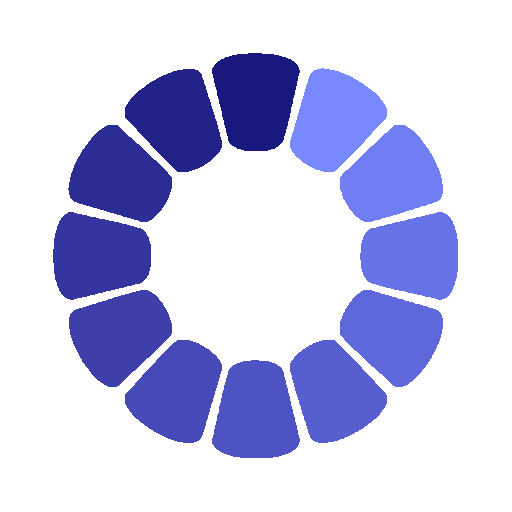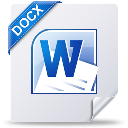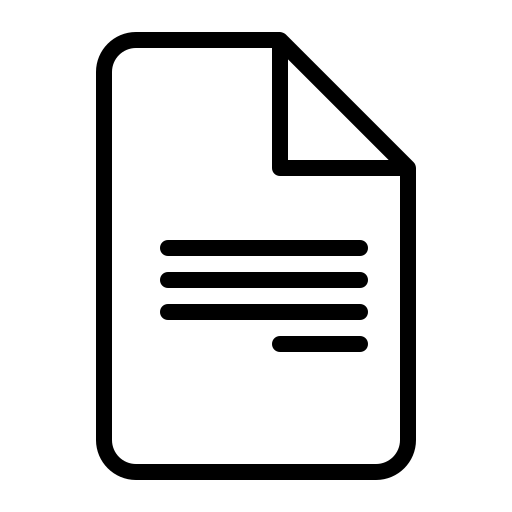Композиция Исполнитель
Композиция
Композиция (лат. – составление, связывание) литературного произведения обозначает мотивированное расположение элементов художественного текста. Композицию часто отождествляют с системой образов и структурой художественного целого. Иногда вместо слова «композиция» литературоведы употребляют понятия синонимического порядка – «архитектоника», «построение», «конструкция», «структура». Композиция делится на две разновидности: внешнюю и внутреннюю.
{spoiler=Подробнее}
Внешняя композиция состоит из томов, частей, глав, разделов, текстовых зазоров. В идеале названные элементы должны отличаться соразмерностью, симметрией, однако писатели, кроме Данте («Комедия» = «Божественная комедия») и Боккаччо («Декамерон»), не слишком задумываются над этим вопросом, хотя чувство пропорции и художественной меры играют свою позитивную роль, поскольку бывает и так, что отдельные главы или части могут печататься как вспомогательные произведения. Например, главы лермонтовского «Героя нашего времени» публиковались отдельно в качестве персональных повестей.
Таким образом, внешняя композиция должна отвечать художественной соразмерности, одинаковой по объему, обладать при этом конструктивной оригинальностью и эстетическим совершенством.
Внутренняя композиция произведения. Она строится по правилам художественной логики, ее созидательными элементами являются повторяющиеся картины, эпизоды, мельчайшие детали. Остановим внимание на то, как работает микродеталь «колесо» в повествовательной структуре «Мертвых душ» Гоголя. Эта деталь создает важный смысловой план и внутреннюю связь событийной системы произведения. На первой же странице романа – поэмы пьяные мужики смотрят на чичиковский экипаж и обмениваются пьяными репликами о том, насколько далекую дорогу способно выдержать это «колесо»: до Москвы, пожалуй, доедет, а до Казани – нет. Потом, через немалое число страниц Чичиков вынужден поспешно уезжать, когда распространились слухи о скупке «мертвых душ». Он приказывает запрягать лошадей, но оказалось, что это невозможно: сломалось колесо и требуется ремонт, а этого времени было достаточно на арест героя. Таким образом, «колесо», о котором толковали два пьяных мужика, в системе внутренней композиции откликнулось в драматическом эпизоде. Оно действительно «доехало» и «не доехало». Бричка Чичикова то и дело переворачивается, ломается. Эта колесница авантюриста противопоставляется в конце первого тома «Птице - тройке», которая мчится неудержимо и невесть куда, и народы ей уступают дорогу. Чичиковская бричка превратилась в «Русь - тройку», и кормчим, согласно откровению одного из шукшинских героев, является кучер Селиван!
Приемы внутренней композиции широко используют писатели XX века. Классическим образцом можно считать повесть Э. Хемингуэя «Старик и море», которая буквально соткана повторяющимися словами, эпизодами, картинами. Исключительно высока частотность слова «старик», что превращает рыбака Сантьяго в библейского мудреца. В таких случаях принято говорить о лейтмотивном принципе построения композиции.
Важным способом создания внутренней композиции является антитеза, прием противопоставления. И в первую очередь это применимо к системе образов, точнее, к расстановке в тексте персонажей, что именуется группировкой образов. Самая традиционная группировка строится по принципу нравственного деления героев на носителей добра и зла. Так, в «Капитанской дочке» противопоставлены Гринев – Швабрин, здесь антитеза просматривается и на уровне «говорящих» имен. Эти персонажи резко расходятся по линии поступков и помыслов. Антиподами являются царица-самозванка и государь – самозванец.
Другой принцип построения внутренней композиции связан с синтаксическими фигурами сопоставления и противопоставления. Рассматриваемые пары образуют параллели не только в моральном, но и в психологическом плане. У того же Пушкина сказано об Онегине и Ленском как о натурах противоположных, но вовсе не в моральном значении, а в смысле характеров, в психологическом отношении. Онегин – человек разочарованный, изверившийся в ценностях жизни, ничего хорошего от жизни уже не ожидает, а Ленский, будучи молодым и восторженным романтиком и мечтателем, с иронией смотрит на жизнь, как говорится, сквозь розовые очки. Иногда сопоставительный параллелизм персонажей доходит почти до тождества, до абсолютной одинаковости. Таковы у Гоголя Добчинский и Бобчинский.
Композиционный параллелизм прослеживается и на уровне идеальных героев. В «Песне о Роланде» Оливер (Оливье) и Роланд сопоставляются и противопоставляются одновременно как выразители рыцарской чести.
В системе внутренней композиции встречаются противопоставления ложного свойства. Внешне персонажи вроде бы образуют оппозиционное поле, а по существу перед нами параллелизм. Таковы герои Гоголя из «Повести о том, как поссорились Иван Иванович и Иван Никифорович». Автор во всем оттеняет их друг от друга, даже в чертах внешности, а по существу это два одинаково бездуховных, злых украинских обывателя и даже контрастные внешности оказываются тождеством: у одного Ивана голова напоминала редьку хвостом вверх, у другого – ту же редьку, только хвостом вниз.
Начиная со второй половины XIX века в мировой литературе стала внедряться «музыкальная композиция», где законы построения музыкального произведения (контрапункт, лейтмотивы, симфонизм) стали использоваться в художественной литературе. Таков, например, «джаз - роман» Ричарда Олдингтона «Смерть героя» или роман «Контрапункт» Олдоса Хаксли. Впрочем, такие приемы уже встречались в творчестве Гофмана. Появляются произведения, озаглавленные жанрами музыкального искусства.
В организации композиционной структуры используются разнообразные модели, влияющие на динамику развития событийной основы. Умелое владение художественной ретардацией (лат. – запаздывание, замедление) позволяет интриговать читателя. Здесь драматические события прерываются за счет описаний природы, обращения к памяти прошлого, философских раздумий. Данный тип композиции успешно используется в кинематографе (в сериалах), что позволяет держать зрителя в напряженном ожидании.
Финалы сюжетных произведений и их конструкции. Эта тема в равной мере относится и к сюжету, и к композиции. При этом она возводится в самостоятельную литературоведческую категорию.
Имеется несколько характерных типов концовок. Самыми распространенными являются печальные (трагические) и счастливые (хэппи энд) финалы. Встречаются финалы – умолчания, но они предсказывают драму в будущем: «Немая сцена»; «Народ безмолвствует» (отметим, что последнюю формулу автору «Бориса Годунова» подарил Николай I). В литературе XX века был создан финал, удовлетворяющий всех читателей. Так, в романе Джона Апдайка «Давай поженимся» одни читатели считают, что Салли и Джерри поженятся и довольны таким разрешением коллизии, другие, напротив, убеждены в обратном, что эти герои возвратятся в свои семьи.
Теоретики литературы наиболее всесторонне изучили финалы незавершенного типа. Здесь можно привести целый ряд примеров: «Дон Жуан» Байрона, «Евгений Онегин», «Мертвые души», «Что делать?». Как правило, авторы учебников по литературе легковесно объясняют причины незавершенных текстов, ссылаясь в основном на биографические обстоятельства: а) писатель не успел закончить произведение по причине своей кончины; б) по цензурным соображениям были поставлены многоточия. Такого свойства обоснования нельзя считать убедительными, поскольку затрагивается проблема сугубо эстетическая. Сам материал («чистота жанра», «память жанра» и «память сюжета») начинает диктовать писателю «подсказку»: писать дальше нет смысла, именно тут надо прервать многословие, иначе затем пойдет измышление, художественная ложь. В незавершенности повествования имеется своя логика прекрасного, логика обрыва струны на самой высокой ноте. Художественная правда вполне может сопротивляться творцу.
В истории литературы встречаются финалы, когда «незаконченное» произведение одного автора продолжает другой. Так, В. Брюсов становится преемником «Египетских ночей»; Олег Сидельников в романе «Нокаут» реконструирует судьбу Остапа Бендера, ставшего управдомом. Такие опыты предпринимались еще в эпоху Средневековья. Вспомним, «Роман о Розе» Гильома де Лориса и Жана де Мена.
Пристальное внимание к поэтике финалов уделяют филологи США. Так, Р. Левин рассматривает значение концовок в структуре пьес У. Шекспира. Филологи Лос Анджелоса в 70 – е годы XX века стали издавать сборники, посвященные проблеме завершения повествования («Narrative endings. – Nineteenth – century fiction. – Berkeley. – Los Angeles, 1978, vol. 33, № 1ю – P. 1 - 158»).
{/spoilers}